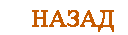Олег Гонозов.
"Скажут все, что мало прожил..."
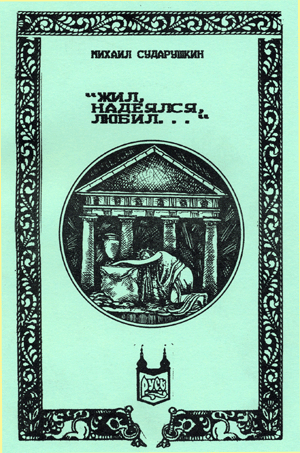 Стихи семибратовца Михаила Сударушкина, только что закончившего исторический факультет Ярославского педагогического университета, впервые появились на страницах «Золотого кольца» два года назад – в июне 1999-го. А ровно через два года мы откликнулись рецензией на его маленькую по формату, но очень веселую книжку сказок, стихов и шуток «Зазеркалье» Вот только заканчивающее книжку стихотворение «Эпитафия» было слишком серьезным и как-то не совсем не вписывалось в ее удивительно легкий настрой.
Стихи семибратовца Михаила Сударушкина, только что закончившего исторический факультет Ярославского педагогического университета, впервые появились на страницах «Золотого кольца» два года назад – в июне 1999-го. А ровно через два года мы откликнулись рецензией на его маленькую по формату, но очень веселую книжку сказок, стихов и шуток «Зазеркалье» Вот только заканчивающее книжку стихотворение «Эпитафия» было слишком серьезным и как-то не совсем не вписывалось в ее удивительно легкий настрой.
Как позже выяснится, и отец Михаила – член Союза писателей России, автор многих книг – тоже отговаривал сына включать стихотворение в сборник, но Михаил, считая его самым любимым, настоял на своем:
Я родился – были слезы,
А умру – не будет их,
Только белые березы
Мне прочтут прощальный стих.
Скажут все, что мало прожил,
В этой жизни я – лишь гость.
Стук лопаты растревожит
Семибратовский погост.
Никогда не стану старше,
Кто любил – пускай не ждет.
А душа продолжит дальше
Рано прерванный полет.
Откуда нам тогда было знать, что еще только вступающий в большую жизнь (3 июля 2001 года Михаилу Сударушкину исполнилось 24 года), но уже давно страдающий инсулинозависимой формой сахарного диабета юноша написал его как бы в удивительном предвидении своей собственной судьбы?
30 сентября, не сумев преодолеть воспалительный процесс после вторичного перелома ноги, Михаил Сударушкин умер. Умер, как истинный поэт, молодым.
Еще бегая по некрасовским местам в Карабихе, настроенный на поэтическое восприятие окружающей действительности, Миша тоже вдруг заговорил стихами: «Собака Некрасова без аппетита съела Тарасова. Дело закрыто».
(Анатолий Федорович Тарасов – создатель музея Н.А.Некрасова, прожививший в то время в Карабихе.)
И отцу не оставалось ничего иного, как только на манер Чуковского записывать его детские изречения.
Сам Михаил Сударушкин в школьные годы не воспринимал стихи всерьез, хоть и прочитал с дедом «Кому на Руси жить хорошо?» от корки до корки, но, как все ровесники, больше увлекался фантастикой, а став постарше – историей и краеведением. Его наполненные сарказмом и юмором стихи, шутки и прокламации сочинялись играючи, как бы сами по себе, надолго оседая в Мищиной памяти, и только по настоянию отца в последние годы он начал их записывать:
Не хотел писать об этом,
Но известность достает…
Не зови меня поэтом,
Я всего лишь стихоплет.
Спросишь ты: а в чем тут дело?
Почему убавил спесь?
Не хочу, чтоб на дуэли
Убивал меня Дантес.
На выпускном вечере в Семибратовской средней школе Михаил уже присутствовал в качестве студента исторического факультета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. Но учился заочно, совмещая учебу с работой учителя истории, библиотекаря, снова учителя.
Тема его дипломной работы, которую он защитил на «отлично», – «Использование материалов о малой родине в процессе преподавания краеведения в сельской школе» – определила круг его интересов. Именно краеведение, седая история древнего Ростовского края и прежде всего Семибратова и его окрестностей занимали младшего Сударушкина тогда больше всего. В 1998 году из-под его пера выходит первая книжка об истории поселка – «О семи братьях-сбродичах, заповедной Кураковщине и несбывшейся мечте», на следующий год еще одна книга – «Расследуя старинные преданья…», в 2000 году третья – «Путешествие к истокам», помимо которых он успевал еще издавать в Семибратове две газеты: школьную – «Истоки» и общеобразовательную – «Большая перемена».
Одной из последних работ Михаила Сударушкина стал вышедший отдельным изданием краеведческий очерк «Расстрелянное детство», в котором он взглянул на ярославский мятеж в июле 1918 года не с позиции белых или красных, а с позиции невинных жертв мятежа – детей Ярославля. Среди его прадедов – красный комиссар Иван Николаевич Нефедов и белый офицер Никифор Матвеевич Храмов. Именно им Михаил Сударушкин и посвятил свой очерк.
Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь утраты от безвременной кончины Михаила Сударушкина. Ему бы еще жить и жить… А теперь задумки новых краеведческих книг так и останутся нереализованными, очерки – ненаписанными, стихи – не сочиненными. Жаль. Поспешил Михаил с публикацией своей «Эпитафии», а с барышней с косой – смертью, как известно, шутки плохи. Несмотря на то, что, как писал другой поэт, «все мы, все мы в этом мире тленны», по младости лет даже исключительно одаренным авторам все же не стоит касаться в своем творчестве темы собственной смерти.
Но Михаил, может быть, из-за своей разлученной любви, может, из-за страданий, что доставляла ему болезнь (незадолго до смерти у него началась депрессия, и он порой высказывался, что не хочет жить), не побоялся этой темы. Написал свою «Эпитафию» – и умер молодым. Как все настоящие поэты.
В найденной после его смерти «потаенной» (не для чужих глаз и прижизненных публикаций) тетради осталось много стихов, посвященных его первой и последней любви, которая оказалась в его судьбе роковой:
Я на нее украдкою гляжу
И, хотя не верю в Бога, умоляю:
О, Господи, лишь об одном прошу –
Дай ей бессмертие!
За что? И сам не знаю.
Все разметает суматошный век,
Исчезнут города, народы, страны.
Но пусть живет вот этот человек –
Такой, как есть, –
Коварный, лживый, странный.
Родители девочки, зная о Мишином сахарном диабете, посчитали, что лучше им не встречаться, и предприняли все возможное, чтобы разлучить их. И кто знает, может быть, именно это грубое телодвижение и породило тот ветерок, что задул и без того слабый огонек веры, надежды и любви этого очень светлого и по-взрослому мудрого юноши. Вот только даже забрав у Михаила жизнь, смерть все равно не смогла отнять его стихов, которые сегодня, к сороковому дню, звучат как бы оттуда, из небытия:
На моей могиле
Вещая трава
Шепчет мне о милой
Горькие слова.
Не шепчи, вещунья,
Я не помню зла.
Нынче все прощу я,
Что бы ни узнал.
Я и так невесел,
Я и сам грешил.
Лучше спой мне песню
На помин души.
Чтобы были вместе,
Как с травой земля,
Неразлучно вместе –
Милая и я.
Чтоб ни зла, ни смерти,
Ни пустых обид…
Чтобы подлой сплетней
Не был я убит.